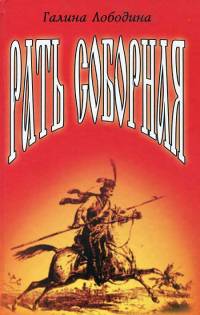
Пропащие, забытые Богом места — Придонье полынное: на дожди
скудное, ветрами меченное, а что до судьбинного фарту, то какой уж тут фарт —
что ни беда, то к его же берегу.
Спокон веку топтали дикое поле кочевники — инородцы,
попроливши с лихвою казачьей кровушки; и славяне-воители в жажде «шеломом Дону»
испити клали головы непокорные в ту же степь.
По сию пору высится за дальним обмыском Дона старющий
казачий курган. Обметанный свилью вянущего дикотравья, утомлённый содомной и
чадной жарою июля, — пластает над собою марь.
Чудится тогда, что бренные останки неведомых воинов: чужих
ли, своих, обречённых на извечную немоту, силятся стронуть своё последнее,
неповольное становище и открыть небу тайную горечь своей погибели.
Озорует над курганом полуденное солнце, ослепляющим
златонитьем прошивает духовитые заросли густо-сиреневого шалфея в распадке, где
на зорьке таился ещё туман, а потом в единый миг рассыпался хладным бисером на
травы...
О погибельной судьбе Дикой земли живуча в здешних краях
легенда, хранимая-де в древней тайнописи, где некий пророк вещует о казачьей
Атлантиде, которой в небесных скрижалях прописано: быть в водах схороненной на
века.
И что де та казачья Атлантида мостилась на правом берегу
Дона у Цимлянской излучины, подковой изгибающейся у старинной хазарской, а
потом уже русской крепости — Саркела, или Белой Вежи.
Было то пророчество воистину, или выдумал его затейник, —
кануло сие в лету, зато ясно как Божий день то, что та старинная крепость
затоплена донскими водами уже в нашем, двадцатом веке...
Историки же, не мудрствуя, смеют утверждать, что плачевность
и даже проклятость судьбы Подонья — сущая выдумка, что казачья вольница жила —
не тужила и даже зорила чужие земли, свершая лютые и смелые набеги не хуже
татар.
К примеру, приводят свидетельство, бережёное в тайниках
истории, о том, как ногайский князь Юсуф прислал русскому царю Иоанну Грозному
жалобу, что де казачий атаман Сары-Асман, построивший на Дону три городка,
беспрестанно тревожит его кочевья разорами. На что царь-батюшка, говорят,
слукавил: «На Дону живут разбойники без нашего ведома... мы и прежде сего
посылали истребить их, но люди наши достать их не могут».
И хитёр, сказывают, народ был, кумеклевый. Называя свою
землю «государевой вотчиной», крепко при том озоровал: «пожалован» де казакам
Дон самим царём Иваном Грозным ещё лета тысяча пятьсот пятьдесят второго за
взятие Казани... И тут же, осеняя себя крестным знамением, передавал изустное
предание, слыхиваемое от дедов, слово в слово: «По окончании же штурма Царь
пришедших воинов оных одарил казною и другими полученными добычами, но Донцы
ничего того не взяли, а просили, чтобы пожалованы были рекою Доном до тех мест,
как им надобно, что им и не отказал. Он им реку оную пожаловал и грамотою
утвердить изволил, с тем, что кто буде дерзнет сих Донских Казаков с мест их
сбивать, тот да будет проклят во веки веков; с оной же грамоты во все станицы
войска Донского даны, для сведения Казацкого, списки, которые читаются при
собрании их в день Покрова Пресвятой Богородицы после обедни».
Красноречивого сего документа — царской грамоты о
«пожаловании реки», меж тем, никто и в глаза никогда не видывал и, скорее
всего, вряд ли увидит. Но зато завидная и неоспоримая исключительность
положения казачьего Дона при московском престоле была сущей правдой.
«С Дону выдачи нет», — глаголила та правда блаженными
устами. «Конь под нами, а Бог над нами», — эхом вторили той правде казаки.
... Кто же ты есть, казачье неустрашимое войско? Каким
отравным иль любодейным зельем вспоена твоя вековуха-вольница?
За какую Божью Правду, какую судьбинушку гнулись в битвах
кровавых шашки и пики твои, что шептали уста на краю погибели?
Под какими: библейскими иль мирскими законами ходил ты под
небом? Что ценил и любил пуще своего живота и превыше злата?
В чём твоя Русь и вера твоя, казак? Где престол и держава?
Члсть 1
ЗАСЛОН
Казачий Мариинский городок гулял. Надоедливым шмелем плыл
над Доном его разудалый, мерочный шум; до самой излучины, обнимавшей обмысок с
покойно дремавшими на приплесе челнами-яликами, доносились запахи жареной
баранины, густого и старого виноградного вина, добытого в заморском промысле и
выбродившего в атаманском бережнике — студеной ямине у донского обрыва —
целехоньких три лета.
Фёдор Черкашин женил сына Матвея. Ладный и высокий станом, с
густым румянцем на смуглом худощавом лице — Матвейка, слывший казаком бывалым,
ходил молодой Черкашин с войском на стругах в море и был за морем, «за полтора
днища от Константинополя», где казачья их рать «повоевала в Царьградском уезде
села и деревни и многих турок пленила», — брал в жёны их же, мариинскую девку —
Катерину.
Молодые перед самым полуднем вернулись из часовни, где
войсковой священник батюшка Михаила сурово бранился с Прокопом Черкашиным —
племянником атамана и боярином жениха за то, что тот не мог «как полагаетси»
постоять перед церковным престолом — крохотным аналоем, а всё перекладывал с
одной руки в другую венец над головой Матвея и скалил щербатые зубы
вертихвосткам — девкам.
В дурные приметы отец Михаила не верил, а верил только в
Божье слово, но по окончании требы замахнулся на Прокопку кадилом: —Ужо я табе,
поганец, учиню нонче, ужо понаучаю, как перед ликом заступницы — Богородицы
стоять. Дай-ко мне тольки рясу снять.
—Дак мухи жа...
— Оьедять они табе,
басурмана!? Загрызуть вусмерть!? Не мог, шила ляховская, свербень татарский,
выдержать чину, как велит христианский закон!? А ежели бы в сражении был? И
пушку или иную орудию на прицеле держал ежели б? Тожа бы от мух отмахивался и
туды-сюды оружием махал, как давеча венцом над брачующимся, чтобы свою войску
пострелять?
Отец Михаила так рассвирепел, что, может, и не стал бы
дожидаться, пока снимет рясу, и треснул бы Прокопке по шее (а кулаки у него
увесистые, это Прокоп хорошо помнил сызмальства), но подоспел атаман и
вызволил:
- Бяги в курень да передай нашим, — напутствовал он
Прокопку, — пущай кожух стелют под ноги у порога молодым не старый, а новый. А
то я баб, лахотов ентих, знаю: новый в сундуки упрячуть, шкодовать зачнуть, а
старый с молью людям глаза мозолить выставять...
Прокопка лёгким соколком юркнул в толпу нарядно одетых
казаков и казачек; по ходу дела ущипнул пышногрудую девку Анютку; шлепнул по
заду жалмерку Наталью, отчего густо пахнуло в ноздри пыльным табачным духом
(дорогую юбку, мужнин дарунок, берегла Наталья пуще глаза и к приходу с промыслу
своего служивого — табаку, «ен-той вонькой турецкой зельи», совала в сундук от
распроклятой моли немеряно; на паперти, где казаки разливали из ендовы* по
чарке крепкий касильчатый мёд, ловко подвернулся под руку виночерпию, принял не
без ропота сотоварищей своё, заслуженное, и был таков. Уже потом перед дядькой
— атаманом, заменявшим ему отца (батяню сгубили турки тогда же, в том знатном
походе в Константинополь), сердечно винился за свою оплошность:
— Христом Богом клянусь... Не знал я, что енто сурьез-но...
Венец да и венец... Можеть, в их от ентого...
Прокопка замялся, покраснел, отчего в чёрных, как ночь,
черкашенских глазах дрогнула мокрость.
— Можеть, у Матвейки с Катериной жизнь всё едино до ладу
будеть. Можеть, довекуют до старости сообча... Я жа не знал...
Над Мариинкой солнце в зените. Конец апреля, а по-казачьи,
по-здешнему — цветеня. Расплескалось по оподолью червонное тихое сияние — то
кудревато закружившийся в распадках краснотал зарумянил молодые лозы, укрыл их
нежным дымком цветения, объял пригретую землю пагубно-сладким подыхом...
Пьянеет от цвета вешнего Подонье, пьянеют казаки от гульбы,
от щедрой атаманской чарки и сытого застолья, от воли и тишины, покойным
челноком-стружочком прибившейся в кои веки к их извечно беспокойному берегу...
Матвейка Черкашин стоял рука об руку со своей наречённой
Катериной в атаманском курене в горнице и усмехался в усы: дедуня Иван, а
по-уличному Безухий (ухо у деда и вправду отсекли ещё подо Псковом, когда
«войска казачья воевала Батория») волок в горницу дикую белую козу с бородатым
козлом.
-Дарую табе, внучек, и табе, Катерина, козу с ентим козлом,
штобы ты, казак, за веру православную шёл завсегда напролом... А ишшо дарую табе,
Матвейка, кобылий хвост...
-дед, известный в Мариинском городке затейник и словоблуд,
закашлялся, заплясал кривобокими сапожками на месте, потом, чихнув два раза в
рукав и поспешно перекрестившись на висевшего в углу Николу Угодника,
забалагурил снова на радость разинувшему рты казачьему люду:
- Дак вот... Дарую табе, Матвейка, ентот кобылий хвост,
штобы для басурманина хитрожопого и ты был не прост... И, как кобыла шибко
вскидывает задом, штобы ты едак взмахивал саблей!
Дед Иван, сунув спутанное, попахивающее не то гнилью, не то
тиной мочало из длинного конского волоса покрасневшему Матвейке в руку, передал
кому-то из стоящих с краю казачек блеющее, связанное кожаной ременкой добро, и
боевым, с выпяченной грудью кочетом поковылял к настежь распахнутой,
запруженной зеваками двери, на ходу неловко прихрамывая и стараясь скрыть
хромоту.
Через минуту из-за дверного косяка торкнулась дедова острым
топориком, бородка, забелели усы и появился сам дед, уже совсем по-геройски
тащивший кое-как прикрытый старым зипунишком сундучок.
-А енто, Катерина, табе, — дед звякнул медной, окованной
серебром крышкой ларца, неспешно её откинул, сунул в темную глыбь беловатый
топорик бороды и зачерпнул негнущейся горстью что-то звонко заговорившее,
тонкими колокольцами запевшее под шершавыми дедовыми пальцами ... Не успела
Катерина затаить дыхание от предчувствия пахнувшего на неё счастья, как дед
Безухий извлёк из сундучка кусочки солнца, ослепительно заигравшие в прядиве
жарких лучей, пробивающихся сквозь запылённые, пахнущие богородицыной травой
сенцы.
-Дарую табе, Катерина, енти княжьи монисты — златые червонцы
— штобы глаза твои завсегда были в оконце: выглядеть казака с походу и завтра,
и днесь и не растратить без него ни красу, ни честь...
- Аи да Безухий! Ну и сказитель! — всплеснула руками кума
Фёдора Черкашина Устинья: — И где токмо таких словей понабрал?
-Любо, атаман, ей-Богу, любо! — топали ногами, ободряя
боевого, немного сконфуженного от такой похвальбы, а пуще от «атаманской
звании», которой Господь не сподобил ни разу, побратима два старых казака. —
Спаси Христос! И старики в Мариинке ишшо молодцом!
-Знай черкашинскую породу: что орудию в руках держать, что
слово красное молвить, — кругом ерои! — хвастливо поддакивала родня.
- Шельма, как есть шельма, — гудела одобрительно честная
компания весёлых молодых казаков, столпившихся у комеля, качая головами и крутя
усы на утеху свахе Мела-нье, строго следившей за соблюдением обряда.
- Дед, не с турками ли в последнем походе таким лю-бодейным
речам научался? Скажи, покайся на старости годов? Можеть, и Бог простить, и
казаки послухають, — не унималась тем часом бесстыдница Устинья.
-А таперя, Матвейка, — дед Иван на озорницу не повел ни
глазом, ни единым свом ухом, — таперя заглавной дарунок... Ступай-ко на баз...
Казаки в вышитых позументом в честь черкашинской свадьбы
кафтанах, полукафтанах, новых зипунах, опушенных голубой камкой с шёлковой
нашивкой, казачки в праздничных, на манер турецких платьев, кубильках,
застёгнутых на ровные рядочки сияющих на солнце пуговок, в сафьяновых, ладно
обтягивающих щиколотку полусапожках, в кичках и шлычках, лентах и опоясках, —
радужно-ярких, сияющих золоченой россыпью жемчугов, серебра и шёлка, —
двинулись за дедом и молодой четой под вешнее небо, на широкий плат атаманского
стана.
... Играя на ярком солнце густою гривой на
высокопоставленной, по-лебединому изогнутой шее, на базу, за куренем, не
скакал, а плыл по кругу в лёгком, длинном и каком-то нездешне нарядном шаге,
даже не шаге, а размашистой рыси огненно-рыжий жеребец.
И словно любуясь самим собою и зная, что любуются им,
жеребец встряхнул шелковистою челкой и свешенной на один бок кудреватою гривой,
дрогнул мускулистым крупом, — и тут же на широкой груди, длинной, косо
поставленной лопатке, от самых кончиков ушей на лёгкой и широкой во лбу голове
до высокого, с изящным изгибом хвоста, — заблестели тысячи бисеринок — под
масть жеребцу — ярко-рыжих и ослепительно-золотых, как россыпи солнца.
Шёлковой диво-заморской шалью лоснилась, переливалась,
играла на зависть людям и всему миру лошадиная гладкая кожа...
— Любо! —
выдохнули в толпе.
— Любо,
братья казаки, любо, православные, — ахали столпившиеся на причолке куреня
гости, позабыв о ломящихся под свадебным пиршеством самодельных широких столах,
занимавших почти половину атаманского база.
Кубилек — женское платье в талию с узкими рукавами.
— Спаси
Христос, не чуда ли?
— Сатана,
а не конь!
— Змей!
— Заруби
меня басурман, ежели это не арап, — первым опомнился батюшка Михаила, хоть
слегка и захмелевший от выпитой медовухи, но не терявший головы и знающий
издавна толк в конном деле. — Арап, чистых кровей арап, таких я в Багдаде на
ярмарке видывал. Ей Богу, арап...
Последнее батюшка договаривал осипшим голосом — «арап»,
словно дразня красотой и мощью, поднял сначала одну, потом другую сухую с
прочным копытом и глубоким суставом ногу, изогнул голову и вроде как
поклонился.
— Ну
турка, ну жеребец! — закричал исступленно молодой Прокопка Черкашин, толкая в
бок Матвейку — жениха.
— Матерь
Божия, да он, кубыть, по-нашенски разумееть. Можеть, и гутарить способный, —
неподдельно ахали изумлённые казачки.
— Арап! —
шептал словно молитву отец Михаила. — Ей-Богу, арап и есть.
— Спаси
Христос, отец, любо, родной! Уважил, истинный крест, уважил на славу, —
промокал рукавом дорогого кафтана непрошенные слёзы грозный атаман казачьего
городка Мариинки Фёдор Черкашин.
— Дедуня!
Неужто конь ентот мне? — задыхался от дива и осенившей его догадки Матвейка. —
Побожись же, дедуня, Христом Богом прошу, побожись...
— Табе,
Матвеюшка... — дед Иван разом позабыл заготовленные «красные» речи, обмяк всем
усохшим телом и, махнув на солнце клешневатой рукою, кивнул на жеребца и скупо,
не по-безуховски изрёк: — Арабская лошадь. Сундук червонцев отдал за рыжего
ентого змея персу... Пущай он табе службу служить. Я вот, когда Батория
воевал... Эх бывалоча... — Дед хотел добавить что-то ещё, но вконец стерял
голос и непослушной хромой ногою рассек воздух, свернул за курень и потупал,
по-петушиному смешно и неловко пританцовывая, к Дону.
|